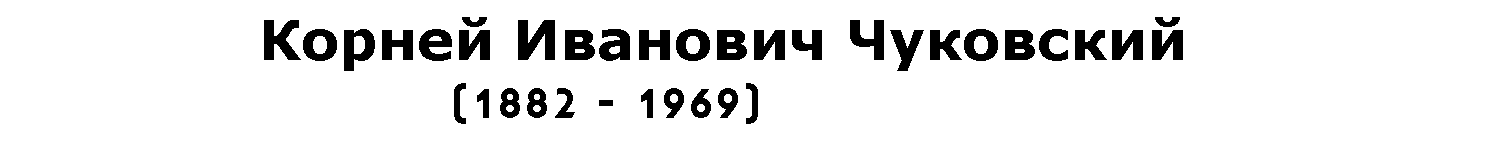
|
Удаление татуировок лазером в Москве Ответим на все Ваши вопросы о татуировках и перманентном макияже. Запишитесь на консультацию и получите макет татуировки бесплатно. 100% стерильность и безопасность.
|
1941
Когда страна узнала о войне,
в тот первый день, в сумятице и
бреде,
я помню, я подумала о дне,
когда страна узнает о победе.
Маргарита Алигер
18 сентября 1941 года
Еще так недавно на этих веселых лужайках кувыркались и барахтались дети. Здесь, под старинными липами, был летний санаторий для школьников.
А теперь по тем же столетним аллеям медленно ковыляют раненые — в длинных халатах, на костылях, с забинтованными головами и руками.
Издали они показались мне такими печальными. Я пришел сюда как друг-писатель, чтобы прочитать им стишок или отрывок из повести, но что я прочту этим «несчастным страдальцам», чем отвлеку их от их тяжелого горя?
Я подошел ближе и с изумлением увидел, что никаких «печальных страдальцев» здесь нет. Загорелые круглые лица, простодушные, чуть-чуть озорные глаза.
Неужели эти улыбающиеся, спокойные, ясноглазые люди только что были в огне самой кровопролитной и беспощадной войны, какой еще не знала мировая история?
С громким крестьянским смехом слушают они носатого гиганта, который, опираясь на два костылька, рассказывает им историю о каком-то «проклятом козле»:
— Не отходит, бродяга, от меня ни на шаг. Я в канаву, и он в канаву. Я в огороды, и он в огороды. Что ты будешь делать с проклятым козлом!
Мне объясняют, что этот гигант — минометчик Семен Захарчук, бежавший из фашистского плена. Бежал он два дня и три ночи, прячась в кустах и оврагах, и все сошло бы отлично, да пристал к нему чей-то козел.
— Я его и палкой, и камнем, а он вроде влюбился в меня...
И Захарчук с неотразимым украинским юмором рассказывает, как он привязал своего спутника к дереву и был счастлив, что может бежать без него, а наутро, проснувшись во ржи, опять увидел над собой его бороду...
Слушатели смеются без удержу, и такой же могучий смех слышится в той толпе, которая обступила садовый бильярд и следит за чемпионатом двух дюжих танкистов, орудующих костылями, как киями.
И уже не смех, а громкий хохот сотрясает ту группу бойцов, которая затеяла игру «бери-кури»: между двумя деревьями протянули веревку, а к этой веревке прикрепили на тоненьких ленточках коробки с папиросами «Казбек». Желающий добыть папиросы вооружается ножницами, ему завязывают глаза полотенцем, заставляют покружиться на месте и гогочут как гуси, когда, сбившись с дороги, он режет ножницами не ленту, а воздух.
И я вспоминаю, что здесь же, на этой самой лужайке, месяца два назад, в эту самую игру точно так же играли дети — только вместо папирос были лакомства.
Видно, и вправду у всех мужественных и сильных людей всегда есть в душе что-то детское.
Я расспрашиваю их о боях, в которых они принимали участие. Но, как все истинно бесстрашные люди, они очень неохотно говорят о себе, о своих героических подвигах.
— Ну-ка, сержант Толстяков, расскажи, как ты спас командира! — говорит одному раненому доктор.
Толстяков густо краснеет и машет рукой: стоит ли говорить о таких пустяках! И лишь от его товарищей я узнаю, что, когда одиннадцатого августа немцы окружили его взвод и открыли ураганный пулеметный огонь, Толстяков вместе с другом своим Максименко пошел почти на верную смерть и вывел из немецкого кольца тяжелораненого лейтенанта товарища Аркина.
Во время рассказа он небрежно и равнодушно пожимает плечами, энергично показывая всей своей мимикой, что он не придает своему подвигу никакого значения.
— Вы, — говорит он, — лучше спросите у Миши Ельцова, как он доставил под немецкими выстрелами в свое минометное гнездо десять мин.
Обращаемся к Мише Ельцову, но Миша Ельцов принимает такое же равнодушное выражение лица и даже пренебрежительно выпячивает нижнюю губу, когда какой-то очевидец рассказывает о его геройском поступке. Когда же мы просим его, чтобы он сам рассказал о себе, он встает и начинает нараспев говорить, словно читая стихи, что все дело не в нем, а в его товарищах, Моргуне и Попкове, которые, найдя его в овраге, перевязали ему правую руку, привели его в чувство и проводили в санитарную часть.
Таков стиль разговора, установленный этим коллективом бойцов, — ни за что не говорить о себе.
Оказывается, гигант Захарчук, изображая козла чуть ли не единственным героем своей эпопеи, был верен этому же суровому стилю. Его боевые товарищи сообщают о нем, что, убегая из плена, он уложил двух или трех часовых, поджег захваченную немцами солому и доставил командованию какие-то важные сведения, но Захарчук об этом — ни гугу!
Мне хотелось расспросить их еще о многом, но тут из города прибыл автобус и привез труппу актеров Малого Академического театра, одного из лучших советских театров. Они приехали «дать раненым спектакль». Бойцы поспешили в клуб, и скоро оттуда послышался знакомый жизнерадостный смех.
Если бы нужно было определить одним словом то чувство, которое выносишь из
этого госпиталя, я сказал бы: чувство оптимизма. У этих людей нет ни тени
сомнения в том, что они победят. Залечив раны, они, в огромном своем
большинстве, снова уйдут на фронт — мужественные, простодушные,
несокрушимо-спокойные, сплоченные люди, готовые отдать свою жизнь, чтобы спасти
родину и все человечество от тирании озверелого врага.